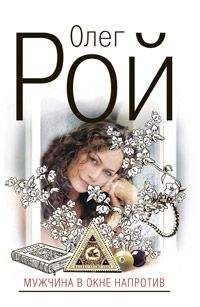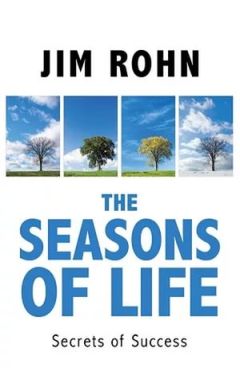Только не|мы (СИ) - Толич Игорь
— Да.
— И как успехи?
— Никак, — я вяло улыбнулась, стряхивая пепел в бокал из-под виски.
— Лучше бы ты обратилась к Габриеле. Из неё отличный психоаналитик.
Я засмеялась, внутренне согласная с этим утверждением, но у меня были припасены свои аргументы:
— К сожалению, Габи в Москве. И теперь мы уже не так близки, как раньше. К тому же она не смогла бы выписать мне антидепрессанты и снотворное.
— Думаю, в случае чего, она могла бы тебе их украсть, — улыбнулся Тони.
Он сел рядом со мной и стал задумчив.
Взъерошенная чёлка, которую Тони подстриг гораздо короче прежнего, торчала ёжиком, отчего лоб его оставался полностью открыт. Я видела каждую новую морщинку на его лице, хоть их и было немного. Но кое-какие изменения всё же произошли. Тони стал выглядеть старше, пробилась первая седина. Его острый нос заострился ещё сильнее и крупно выделялся на худом, бледном лице. Я знала об этом лице всё — как оно смеётся, как плачет, как грустит, как злится и как приходит в ярость. Но я никогда не знала, что это лицо скрывает в каждую новую минуту, потому что Тони не любил показывать своих истинных чувств. И лишь на пике эмоций, я могла прочесть то настоящее, что происходит с ним. Однако сейчас был не тот момент. Я не понимала, о чём думает Тони, а спрашивать об этом не хотела.
Я спросила о другом:
— Как твой бизнес?
— Нормально, — ответил Тони. Он передвинул рокс, служивший пепельницей, на середину кровати, чтобы нам обоим было удобно. — Расти в бесконечность получается с трудом. Наверное, у всего есть свой предел. К тому же в связи с августовскими санкциями и падением рубля, московский отсек здорово сбавил обороты. А белорусский, наоборот, вырос. Но у меня теперь есть исполнительные директора в обоих регионах, это чуть упростило процесс коммуникаций.
— Значит, теперь ты стал свободнее?
— Относительно, — Тони пожал плечами.
Некоторое время мы молчали. В тишине докурили каждый свою сигарету. Тони убрал стакан на тумбочку, лёг на кровать и обнял мои ноги.
— Я не хочу тебя отпускать, — сказал он на выдохе.
— Ты обещал сделать, как я попрошу.
— Да.
— Я прошу тебя, Тони, очень прошу. Прошу всем сердцем: оставь меня.
— Я не смогу.
— Ты поклялся.
Тони закрыл глаза и с силой вжался лбом в мои ступни. Через пару минут он поднял голову. Лицо его было сырым от слёз.
Помолчав ещё какое-то время, Тони произнёс, ровно и спокойно, потому что, как и раньше, он уже всё решил:
— Я буду приезжать в Ригу настолько часто, как смогу. Сниму здесь квартиру и отправлю тебе адрес. Если захочешь, ты всегда сможешь прийти. Я оставлю ключи в назначенном месте. Никто другой, кроме тебя или меня, в эту квартиру не войдёт. И я больше не попрошу тебя о встрече до тех пор, пока ты не придёшь сама. Я больше никак не дам тебе знать о себе. И постараюсь не ждать.
— И сколько ты будешь не ждать?
Тони подумал и ответил, утвердительно кивая подбородком:
— Год, — он глянул мне точно в глаза. — Да, год. Я смогу не ждать год.
— А потом?
— А потом мы всё забудем.
— Как у тебя всё точно посчитано… — не без иронии заметила я.
— У меня работа такая — всё считать и просчитывать.
Я подобрала платье с пола, оделась, в последний раз оглянулась на Тони.
Он сидел на кровати, нагой, неподвижный, и просто следил за тем, как я ухожу. Следил и не препятствовал.
Я молча пошла к двери.
— Эй! — позвал Тони. — Ты не обнимешь меня на прощание?
— Нет, — сказала я.
И покинула этот гостиничный номер, ставший свидетелем моего падения, но так и не увидевший наших последних объятий.
Глава 13
Сегодня я направлялась на финальную встречу с Марией. Я решила самостоятельно поставить точку в нашем с ней терапевтическом общении, хотя бы потому, что ближайшие две недели со мной круглосуточно должен был проводить время другой, более эффективный и совершенно бесплатный, если не считать походов в ресторан, психотерапевт в лице Габриели. А ещё потому, что я больше не желала смотреть на чёрно-белый мир сквозь цветные стёкла антидепрессантов. Я сочла, что с меня довольно. Наступивший год я хочу провести подальше от мира самокопаний и рефлексии, раз уж толку от них не так много, как прочат некоторые специалисты.
О своём решении я известила Андриса, который вернулся из Дрездена тридцатого числа. Он поделился радостной вестью, что Алексис в добром здравии и собирается воссоединиться с богом только через год. Но почему-то, когда Андрис рассказывал мне об этом, его голос не был наполнен живительной силой оптимизма. И я задала вопрос, почему так.
— Ну, что ты, — ответил Андрис. — Я очень, очень рад. Я верю Алексису и ещё целый год смогу навещать его.
— Ты собираешься его навещать?
— Конечно, — легко подтвердил Андрис. — Он ведь мой друг. И, несмотря на столь благополучный прогноз, я хочу лично убеждаться, что с ним всё в порядке, понимаешь? Ему нужна поддержка.
— Ты прав, Андрис, — согласилась я, улыбаясь и одновременно борясь с собой, чтобы не начать просить его больше не уезжать, не оставлять меня одну — только не в этот год.
Пусть Алексис проживёт ещё два, три, пять, десять лет. Или пусть уж лучше отдаст концы прямо сейчас, лишь бы Андрис оставался дома со мной!..
Я устрашилась собственных мыслей. Как можно желать смерти другому человеку, которого никогда не видел, просто потому, что боишься одиночества и отдаёшься во власть слабости, потакая жалкому эгоизму?
Алексис всю жизнь провёл в учении и искуплении, наставляя других и протягивая руку помощи страждущим. Он заслуживал того, чтобы его последние дни и месяцы были украшены вниманием близких. А Андрис проявлял не только милосердие, он доказывал делом свою преданность. Я должна была всячески гордиться им и жестоко покарать себя за распутство и вольномыслие.
— Я знаю, Илзе, ты не в восторге от этого… — начал Андрис, заметив смятение в моём лице.
— Нет, нет! Я действительно считаю, что ты должен быть рядом с другом…
— Я не должен, — спокойно ответил Андрис. — В этой жизни мы должны лишь богу в соответствии с нашей верой. Чем крепче вера, тем больше мы ему должны. Так уж заведено. Но друг перед другом мы вольны поступать согласно одной только совести. Лишь она — мерило всех добровольных поступков. А никакого долга в самом деле нет. Потому воспитывать нам нужно одну совесть. Она подскажет, какой крест нам взвалить и пронести. Моя совесть подсказывает, что мне стоит навещать Алексиса. Так будет правильно.
— Да, всё верно, — смиряясь и всецело принимая его правоту как собственную, сказала я. — Андрис, я…
И здесь должно было бы прозвучать: «Хочу покаяться». Но моя совесть подсказала мне, что швырять своими грехами в того, кто нисколько неповинен в них, — преступление и грубость, каким ещё не придумано подходящего названия и не выделено отдельного круга в аду. Уж лучше я сама растерзаю себя виной и унесу с собой в могилу ту скверну, с которой теперь обязана жить. Но никто — ни Андрис, ни Мария — не переймут и части этой боли.
Я договорила:
— Андрис, я не пойду больше на психотерапию. В понедельник — в последний раз.
— Почему? — удивился Андрис.
— Потому что уверена, что хочу остановиться.
Андрис долго молчал и обдумывал мои слова. Мы были в гостиной, где ещё не успели разобрать ёлку. Я попросила оставить её до приезда Габи, поскольку ей, давно перенявшей русские привычки, придётся по нраву такая атмосфера. Андрис не стал с этим спорить. И также не стал спорить насчёт моих сеансов с Марией.
— Илзе, ты вправе решать сама, когда остановиться и когда начать снова, если такая необходимость возникнет. И ещё, — он взял меня за руку и притянул к своему сердцу. — Отдохните с подругой так, как вам хочется. Что называется «на полную катушку», хорошо?
Андрис улыбнулся и подмигнул.
А мне захотелось расцеловать его, или скорее зацеловать до боли в губах, чтобы он сам уже взмолился о пощаде. Но я просто обняла его, по-родственному тепло, и поблагодарила единственным «Спасибо», потому что знала, что Андрис услышит в этом обыденном слове много больше, чем просто формальная благодарность.